"Озерная школа" в английском романтизме
Предисловие к сборнику "Лирические баллады"
Стихотворения "Тинтернское аббатство", "Нас семеро", "Нарциссы", "Не хмурься, критик"
Стихотворения "Тинтернское аббатство", "Нас семеро", "Нарциссы", "Не хмурься, критик"
Уильям Вордсворт
Уильям Вордсворт родился 7 апреля 1770 года в Кокермауте, графство Камберленд. Он был вторым ребенком из пяти детей Д. Вордсворта. Жили Вордсворты на севере Англии, в так называемом Озерном крае. Мать Уильяма умерла рано, и в 1779 году отец отправил мальчика в классическую школу в Хоуксхеде (деревня в Северном Ланкашире, центр Озерного края), где подопечным давали отличное образование. Уже в Школе Уильям начал писать стихи.В 1787 году Вордсворт поступил в Сент-Джеймс-колледж Кембриджского университета. Молодому человеку в Кембридже не понравилось. Своеобразной формой протеста против царившей там атмосферы зависти и подхалимажа стал пассивный отказ от учебы. Он увлекся писанием поэм. В Кембридже поэт приступил к созданию «Равнины Солсбери», «Вечерней прогулки», «Изобразительных набросков», «Жителей Пограничного края».
Важнейшим событием в студенческие годы стали для Вордсворта каникулы 1790 года. В июле он и его университетский друг Р. Джонс пешком пересекли Францию, переживавшую революционное пробуждение, и через Швейцарию добрались до озер на севере Италии.
Тем временем умер отец Вордсворта. Семья надеялась, что по окончании Кембриджа Уильям примет духовный сан, но он не был к этому расположен.
В ноябре 1791 года молодой человек снова отправился во Францию, в Орлеан, чтобы основательно заняться французским языком. Там он полюбил дочь военного врача Анетт Валлон, которая вскоре забеременела от него. Однако Вордсворту пришлось по требованию опекунов вернуться в Англию еще до рождения ребенка. 15 декабря 1792 года Аннет родила дочь Каролину. Вордсворт признал свое отцовство, но жениться не смог.
По возвращении в Англию поэт поселился в Лондоне. Денег у него не было, определенной профессии не было, дома своего не было. Почти четыре года молодой человек проводил время в компании лондонских радикалов, что стало для него хорошей школой познания жизни низов английского общества. Уильям общался с брошенными матерями, нищими, бездомными детьми, бродягами и калеками многочисленных военных мероприятий Английской короны.
Осенью 1794 года умер один из молодых друзей Вордсворта, завещав ему 900 фунтов. Поэт немедленно арендовал дом, в котором поселился в обществе любимой сестры Дороти. С этого времени сестра не разлучалась с Уильямом до конца его жизни.
Через два года Вордсворты перебрались в Альфоксден-хаус рядом с Бристолем. Там Уильям познакомился с Сэмюэлем Колриджем. Молодые люди быстро нашли общий язык и решили помогать друг другу. Эта дружба изменила не только жизнь обоих поэтов, но и саму английскую поэзию.
В течение 1797—1798 годов они практически не расставались и проводили время в «поэтических забавах». Вордсворт обратился к созданию небольших лирических и драматических стихов, снискавших ему любовь читающей публики. Многие из них были написаны в соответствии с творческой программой, разработанной Вордсвортом совместно с Колриджем и предполагавшей разрушение поэтического канона неоклассицизма. Так начался период в жизни поэта, который биографы Вордсворта называют «великим десятилетием».
В 1798 году друзья издали поэтический сборник «Лирические баллады». Предисловие к сборнику носило характер литературного манифеста, в котором определялись новый стиль, новый словарь и новая тематика для английской поэзии.
4 октября Мэри и Вордсворт обвенчались. Брак их был очень счастливым. С 1803 по 1810 год у них родились три сына и две дочери. Так и не вышедшая замуж Доротея осталась жить в доме брата. Семья росла, и Вордсвортам приходилось периодически менять место жительства, переезжая в более просторные дома. В 1806 году поэт приобрел собственный Домик Доув-коттедж в Грасмире, графство Уэстморленд. Позже семья переехала в Райдал-Маунт близ Эмблсайда, где в 1812 году умерли дочь Вордсвортов Катерина и сын Чарлз.
Вышедший в Англии в 1807 году сборник «Стихотворения в двух томах» завершил «великое десятилетие» Вордсворта.
В 1813 году Вордсворт получил должность государственного уполномоченного по гербовым сборам в двух графствах, Уэстморленде и части Камберленда, что позволило ему обеспечить семью. Эту должность поэт исполнял до 1842 года, когда ему назначили королевскую пенсию — 300 фунтов в год.
Еще при жизни к 1830-м годам Вордсворт был признан классиком английской литературы. В последние годы жизни поэт много времени отдавал тому, что его домашние в шутку называли «штопкой». Он постоянно и настойчиво переделывал ранее созданные произведения для каждого очередного переиздания.
Вордсворт удостоился звания поэта-лауреата и оставался таковым до самой смерти.
Умер Уильям Вордсворт в Райдал-Маунте 23 апреля 1850 года.
Лучшие переводы произведений Уильяма Вордсворта сделаны С. Я. Маршаком.
Важнейшим событием в студенческие годы стали для Вордсворта каникулы 1790 года. В июле он и его университетский друг Р. Джонс пешком пересекли Францию, переживавшую революционное пробуждение, и через Швейцарию добрались до озер на севере Италии.
Тем временем умер отец Вордсворта. Семья надеялась, что по окончании Кембриджа Уильям примет духовный сан, но он не был к этому расположен.
В ноябре 1791 года молодой человек снова отправился во Францию, в Орлеан, чтобы основательно заняться французским языком. Там он полюбил дочь военного врача Анетт Валлон, которая вскоре забеременела от него. Однако Вордсворту пришлось по требованию опекунов вернуться в Англию еще до рождения ребенка. 15 декабря 1792 года Аннет родила дочь Каролину. Вордсворт признал свое отцовство, но жениться не смог.
По возвращении в Англию поэт поселился в Лондоне. Денег у него не было, определенной профессии не было, дома своего не было. Почти четыре года молодой человек проводил время в компании лондонских радикалов, что стало для него хорошей школой познания жизни низов английского общества. Уильям общался с брошенными матерями, нищими, бездомными детьми, бродягами и калеками многочисленных военных мероприятий Английской короны.
Осенью 1794 года умер один из молодых друзей Вордсворта, завещав ему 900 фунтов. Поэт немедленно арендовал дом, в котором поселился в обществе любимой сестры Дороти. С этого времени сестра не разлучалась с Уильямом до конца его жизни.
Через два года Вордсворты перебрались в Альфоксден-хаус рядом с Бристолем. Там Уильям познакомился с Сэмюэлем Колриджем. Молодые люди быстро нашли общий язык и решили помогать друг другу. Эта дружба изменила не только жизнь обоих поэтов, но и саму английскую поэзию.
В течение 1797—1798 годов они практически не расставались и проводили время в «поэтических забавах». Вордсворт обратился к созданию небольших лирических и драматических стихов, снискавших ему любовь читающей публики. Многие из них были написаны в соответствии с творческой программой, разработанной Вордсвортом совместно с Колриджем и предполагавшей разрушение поэтического канона неоклассицизма. Так начался период в жизни поэта, который биографы Вордсворта называют «великим десятилетием».
В 1798 году друзья издали поэтический сборник «Лирические баллады». Предисловие к сборнику носило характер литературного манифеста, в котором определялись новый стиль, новый словарь и новая тематика для английской поэзии.
4 октября Мэри и Вордсворт обвенчались. Брак их был очень счастливым. С 1803 по 1810 год у них родились три сына и две дочери. Так и не вышедшая замуж Доротея осталась жить в доме брата. Семья росла, и Вордсвортам приходилось периодически менять место жительства, переезжая в более просторные дома. В 1806 году поэт приобрел собственный Домик Доув-коттедж в Грасмире, графство Уэстморленд. Позже семья переехала в Райдал-Маунт близ Эмблсайда, где в 1812 году умерли дочь Вордсвортов Катерина и сын Чарлз.
Вышедший в Англии в 1807 году сборник «Стихотворения в двух томах» завершил «великое десятилетие» Вордсворта.
В 1813 году Вордсворт получил должность государственного уполномоченного по гербовым сборам в двух графствах, Уэстморленде и части Камберленда, что позволило ему обеспечить семью. Эту должность поэт исполнял до 1842 года, когда ему назначили королевскую пенсию — 300 фунтов в год.
Еще при жизни к 1830-м годам Вордсворт был признан классиком английской литературы. В последние годы жизни поэт много времени отдавал тому, что его домашние в шутку называли «штопкой». Он постоянно и настойчиво переделывал ранее созданные произведения для каждого очередного переиздания.
Вордсворт удостоился звания поэта-лауреата и оставался таковым до самой смерти.
Умер Уильям Вордсворт в Райдал-Маунте 23 апреля 1850 года.
Лучшие переводы произведений Уильяма Вордсворта сделаны С. Я. Маршаком.
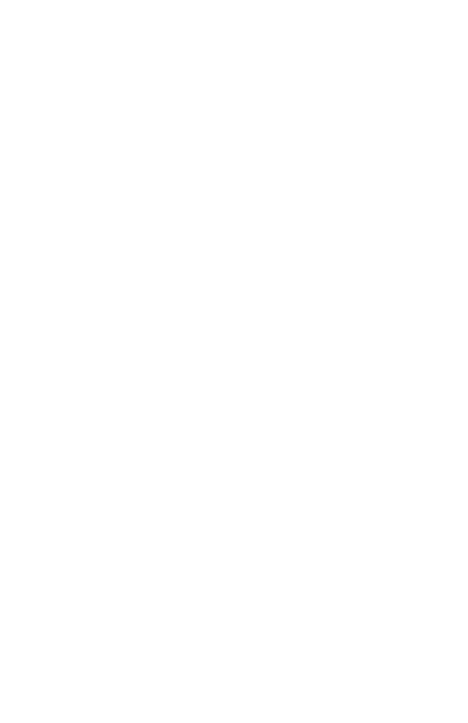
Озерная школа
Озёрная школа — условное наименование группы английских поэтов-романтиков конца XVIII — первой половины XIX века, названной так по Озерному краю — месту деятельности её важнейших представителей: Вордсворта, Колриджа и Саути. Другое название этой троицы — лейкисты, от англ. lake — «озеро».
Фактически Вордсворт и Колридж стали во главе так называемой Озерной школы, или школы лейкистов, которая имела значительное и благотворное влияние на английскую поэзию, развив вкус к изучению простого человека и природы. Сам термин возник в 1800 году, когда в одном из английских литературных журналов Вордсворт был объявлен главой Озерной школы, а в 1802 году Колридж и Саути были названы ее членами. Жизнь и творчество этих трех поэтов связаны с Озерным краем, северными графствами Англии, где много озер. Поэты-лейкисты великолепно воспели этот край в своих стихах. Озерная школа имела определенное влияние на Байрона и Шелли.
Сочинённый Вордсвортом и Кольриджем под влиянием немецких романтиков в 1798 году сборник «Лирические баллады» прозвучал протестом против классицизма XVIII века с его риторической напыщенностью. Отвергнув рационалистические идеалы Просвещения, Кольридж и Вордсворт противопоставили им веру в иррациональное, в традиционные христианские ценности, в идеализированное средневековое прошлое.
Фактически Вордсворт и Колридж стали во главе так называемой Озерной школы, или школы лейкистов, которая имела значительное и благотворное влияние на английскую поэзию, развив вкус к изучению простого человека и природы. Сам термин возник в 1800 году, когда в одном из английских литературных журналов Вордсворт был объявлен главой Озерной школы, а в 1802 году Колридж и Саути были названы ее членами. Жизнь и творчество этих трех поэтов связаны с Озерным краем, северными графствами Англии, где много озер. Поэты-лейкисты великолепно воспели этот край в своих стихах. Озерная школа имела определенное влияние на Байрона и Шелли.
Сочинённый Вордсвортом и Кольриджем под влиянием немецких романтиков в 1798 году сборник «Лирические баллады» прозвучал протестом против классицизма XVIII века с его риторической напыщенностью. Отвергнув рационалистические идеалы Просвещения, Кольридж и Вордсворт противопоставили им веру в иррациональное, в традиционные христианские ценности, в идеализированное средневековое прошлое.
"Лирические баллады"
Все три поэта в молодости поддерживали Великую Французскую революцию. Но уже в 1794 г. они отходят от этих позиций. Их объединяет разочарование в революции, страшит буржуазный мир. В этих условиях они создают сборник «Лирические баллады». Успех этого сборника положил начало английскому романтизму как литературному направлению. Предисловие Вордсворта ко второму изданию «Лирических баллад» стало манифестом английского романтизма.
Новизна поэтического сборника, по мнению Вордсворта, состоит в обращении к новым темам и использовании нового языка. В отличие от современных ему авторов, сориентированных на поэзию классицизма, Вордсворта не привлекают предметы возвышенные и значимые, главная задача этих стихов заключалась в том, чтобы отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни и пересказать или описать их, постоянно используя, насколько это возможно. «Мы выбирали, прежде всего, сцены из простой сельской жизни, поскольку в этих условиях естественные душевные порывы отыскивают благоприятную основу для созревания, подвергаются меньшему ограничению и повествуются более простым и выразительным языком; поскольку в этих условиях наши простейшие чувства проявляются с большей ясностью и, соответственно, могут точнее изучаться и ярче воспроизводиться…» Одно из основополагающих положений теории Вордсворта – обоснование необходимости приблизить поэзию к природе. Основой является приближение героя и поэтического языка к наиболее естественным формам. В силу этого, героями становятся простые деревенские жителя, сохранившие естественные душевные порывы и простейшие чувства, а иногда и люди психически недоразвитые. Их язык – язык обыденной жизни – более вечен, философичен, натурален, нежели искусственный прихотливый язык поэзии. Вордсворт считает, что «между языком прозы и языком поэзии нет и не может быть существенного отличия» и потому поэзия не нуждается в каком-то «особом» языке, как считали творцы предыдущей эпохи. Так же не может существовать и «особых» поэтических тем. Поэзия заимствует свои темы из жизни, она обращается к тем предметам, которые волнуют человека и находят отклик в ее сердце. И для Вордсворта поэт — это «человек, который разговаривает с людьми».
Вместе с тем Вордсворт не считает, что поэтическое творчество доступно каждому. Много идей, высказанных Вордсвортом в «Предисловии к «Лирическим балладам», — о необходимости для поэта воспринимать будничное и обычное как что-то удивительное и возвышенное, о воображении, о соотношении чувства и ума в поэзии дают основания считать «Предисловие…» первым манифестом романтизма в английской литературе.
В своих стихах, которые вошли в сборник «Лирические баллады», Вордсворт старался придерживаться тех принципов, которые он лично высказал в «Предисловии…» к книжке. Большая часть из них посвящена жизни крестьян или других представителей низших слоев. Поэтический язык понятен, большинство слова заимствованы из повседневной лексики, поэт избегает использования непривычных сравнений или весьма сложных метафор.
Второе издание «Лирических баллад» было дополнено за счет включения новых стихов, главным образом стихов Вордсворта. Если в первом издании преобладали стихи, созданные в жанре баллады, то во втором заметно увеличивается количество поэтических произведений с ярче выраженной лиричностью. Правда, в сборнике очень сложно разграничить баллады и собственно лирические стихи. Суть поэтического эксперимента двух авторов в том и заключалась, чтобы воплотить в одно целое признаки каждого из жанров. Они попробовали, используя простую четырехрядную строфу баллады, воссоздать тонкие и разнообразные переживания человека, соединить анализ с движением сюжета.
Новизна поэтического сборника, по мнению Вордсворта, состоит в обращении к новым темам и использовании нового языка. В отличие от современных ему авторов, сориентированных на поэзию классицизма, Вордсворта не привлекают предметы возвышенные и значимые, главная задача этих стихов заключалась в том, чтобы отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни и пересказать или описать их, постоянно используя, насколько это возможно. «Мы выбирали, прежде всего, сцены из простой сельской жизни, поскольку в этих условиях естественные душевные порывы отыскивают благоприятную основу для созревания, подвергаются меньшему ограничению и повествуются более простым и выразительным языком; поскольку в этих условиях наши простейшие чувства проявляются с большей ясностью и, соответственно, могут точнее изучаться и ярче воспроизводиться…» Одно из основополагающих положений теории Вордсворта – обоснование необходимости приблизить поэзию к природе. Основой является приближение героя и поэтического языка к наиболее естественным формам. В силу этого, героями становятся простые деревенские жителя, сохранившие естественные душевные порывы и простейшие чувства, а иногда и люди психически недоразвитые. Их язык – язык обыденной жизни – более вечен, философичен, натурален, нежели искусственный прихотливый язык поэзии. Вордсворт считает, что «между языком прозы и языком поэзии нет и не может быть существенного отличия» и потому поэзия не нуждается в каком-то «особом» языке, как считали творцы предыдущей эпохи. Так же не может существовать и «особых» поэтических тем. Поэзия заимствует свои темы из жизни, она обращается к тем предметам, которые волнуют человека и находят отклик в ее сердце. И для Вордсворта поэт — это «человек, который разговаривает с людьми».
Вместе с тем Вордсворт не считает, что поэтическое творчество доступно каждому. Много идей, высказанных Вордсвортом в «Предисловии к «Лирическим балладам», — о необходимости для поэта воспринимать будничное и обычное как что-то удивительное и возвышенное, о воображении, о соотношении чувства и ума в поэзии дают основания считать «Предисловие…» первым манифестом романтизма в английской литературе.
В своих стихах, которые вошли в сборник «Лирические баллады», Вордсворт старался придерживаться тех принципов, которые он лично высказал в «Предисловии…» к книжке. Большая часть из них посвящена жизни крестьян или других представителей низших слоев. Поэтический язык понятен, большинство слова заимствованы из повседневной лексики, поэт избегает использования непривычных сравнений или весьма сложных метафор.
Второе издание «Лирических баллад» было дополнено за счет включения новых стихов, главным образом стихов Вордсворта. Если в первом издании преобладали стихи, созданные в жанре баллады, то во втором заметно увеличивается количество поэтических произведений с ярче выраженной лиричностью. Правда, в сборнике очень сложно разграничить баллады и собственно лирические стихи. Суть поэтического эксперимента двух авторов в том и заключалась, чтобы воплотить в одно целое признаки каждого из жанров. Они попробовали, используя простую четырехрядную строфу баллады, воссоздать тонкие и разнообразные переживания человека, соединить анализ с движением сюжета.
«В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному»
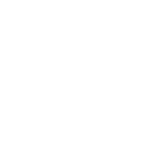
Александр Сергеевич Пушкин
Охарактеризовал переворот, совершенный Вордсвортом и Кольриджем.
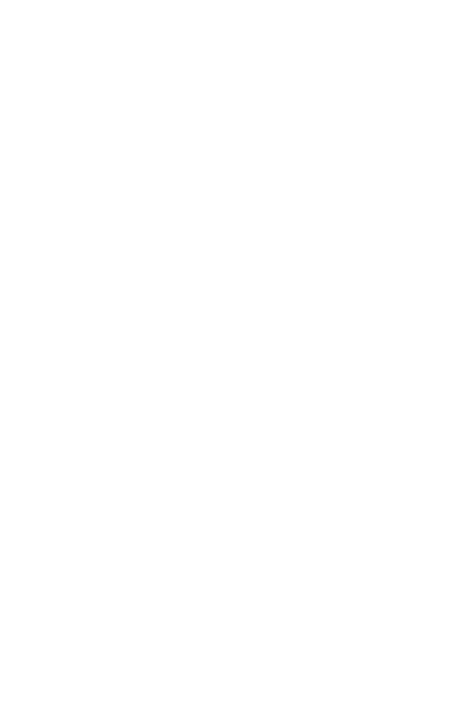
«Итак, главная задача этих Стихотворений состояла в том, чтобы отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни и пересказать или описать их, постоянно пользуясь, насколько это возможно, обыденным языком, и в то же время расцветить их красками воображения, благодаря чему обычные вещи предстали бы в непривычном виде; наконец — и это главное — сделать эти случаи и ситуации интересными, выявив в них с правдивостью, но не нарочито, основополагающие законы нашей природы…».
«Строки, сочиненные в нескольких милях от Тинтернского аббатства, при вторичном посещении берегов реки Уай 13 июля 1798 года».
Пять лет прошло; зима, сменяя лето,
Пять раз являлась! И опять я слышу
Негромкий рокот вод, бегущих с гор,
Опять я вижу хмурые утесы —
Они в глухом, уединенном месте
Внушают мысли об уединенье
Другом, глубоком, и соединяют
Окрестности с небесной тишиной.
Опять настала мне пора прилечь
Под темной сикоморой и смотреть
На хижины, сады и огороды,
Где в это время года все плоды,
Незрелые, зеленые, сокрыты
Среди густой листвы. Опять я вижу
Живые изгороди, что ползут,
Подобно ответвленьям леса; мызы,
Плющом покрытые; и дым витой,
Что тишина вздымает меж деревьев!
И смутно брезжат мысли о бродягах,
В лесу живущих, или о пещере,
Где у огня сидит отшельник.
Долго
Не видел я ландшафт прекрасный этот,
Но для меня не стал он смутной грезой.
Нет, часто, сидя в комнате унылой
Средь городского шума, был ему я
Обязан в час тоски приятным чувством,
Живящим кровь и в сердце ощутимым,
Что проникало в ум, лишенный скверны,
Спокойным обновлением; и чувства
Отрад забытых, тех, что, может быть,
Немалое влияние окажут
На лучшее, что знает человек, —
На мелкие, невидные деянья
Любви и доброты. О, верю я:
Иным я, высшим даром им обязан,
Блаженным состояньем, при котором
Все тяготы, все тайны и загадки,
Все горькое, томительное бремя
Всего непознаваемого мира
Облегчено покоем безмятежным,
Когда благие чувства нас ведут,
Пока телесное дыханье наше
И даже крови ток у нас в сосудах
Едва ль не прекратится – тело спит,
И мы становимся живой душой,
А взором, успокоенным по воле
Гармонии и радости глубокой,
Проникнем в суть вещей.
И если в этом
Я ошибаюсь, все же – ах! – как часто
Во тьме, средь обликов многообразных
Безрадостного дня, когда все в мире
Возбуждено бесплодной суетой, —
Как часто я к тебе стремился духом,
Скиталец Уай, текущий в диких чащах,
Как часто я душой к тебе стремился.
А ныне, при мерцанье зыбких мыслей,
В неясной дымке полуузнаванья
И с некоей растерянностью грустной
В уме картина оживает вновь:
Я тут стою, не только ощущая
Отраду в настоящем, но отрадно
Мне в миге этом видеть жизнь и пищу
Грядущих лет. Надеяться я смею,
Хоть я не тот, каким я был, когда,
Попав сюда впервые, словно лань,
Скитался по горам, по берегам
Глубоких рек, ручьев уединенных,
Куда вела природа; я скорее
Напоминал того, кто убегает
От страшного, а не того, кто ищет
Отрадное. Тогда была природа
(В дни низменных, мальчишеских утех,
Давно прошедших бешеных восторгов)
Всем для меня. Я описать не в силах
Себя в ту пору. Грохот водопада
Меня преследовал, вершины скал,
Гора, глубокий и угрюмый лес —
Их очертанья и цвета рождали
Во мне влеченье – чувство и любовь,
Которые чуждались высших чар,
Рожденных мыслью, и не обольщались
Ничем незримым. – Та пора прошла,
И больше нет ее утех щемящих,
Ее экстазов буйных. Но об этом
Я не скорблю и не ропщу: взамен
Я знал дары иные, и обильно
Возмещены потери. Я теперь
Не так природу вижу, как порой
Бездумной юности, но часто слышу
Чуть слышную мелодию людскую
Печальную, без грубости, но в силах
Смирять и подчинять. Я ощущаю
Присутствие, палящее восторгом,
Высоких мыслей, благостное чувство
Чего-то, проникающего вглубь,
Чье обиталище – лучи заката,
И океан, и животворный воздух,
И небо синее, и ум людской —
Движение и дух, что направляет
Все мыслящее, все предметы мыслей,
И все пронизывает. Потому-то
Я до сих пор люблю леса, луга
И горы – все, что на земле зеленой
Мы видеть можем; весь могучий мир
Ушей и глаз – все, что они приметят
И полусоздадут; я рад признать
В природе, в языке врожденных чувств
Чистейших мыслей якорь, пристань сердца,
Вожатого, наставника и душу
Природы нравственной моей.
Быть может,
Не знай я этого, мой дух в упадок
Прийти бы мог; со мной ты на брегах
Реки прекрасной – ты, мой лучший друг,
Мой милый, милый друг; в твоих речах
Былой язык души моей я слышу,
Ловлю былые радости в сверканье
Твоих безумных глаз. О да! Пока
Еще в тебе я вижу, чем я был,
Сестра любимая! Творю молитву,
Уверен, что Природа не предаст
Ее любивший дух: ее веленьем
Все годы, что с тобой мы вместе, стали
Чредою радостей; она способна
Так мысль настроить нашу, так исполнить
Прекрасным и покойным, так насытить
Возвышенными думами, что ввек
Злословие, глумленье себялюбцев,
Поспешный суд, и лживые приветы,
И скука повседневной суеты
Не одолеют нас и не смутят
Веселой веры в то, что все кругом
Полно благословений. Пусть же месяц
Тебя в часы прогулки озарит,
Пусть горный ветерок тебя обвеет,
И если ты в грядущие года
Экстазы безрассудные заменишь
Спокойной, трезвой радостью, и ум
Все облики прекрасного вместит,
И в памяти твоей пребудут вечно
Гармония и сладостные звуки —
О, если одиночество и скорбь
Познаешь ты, то как целебно будет
Тебе припомнить с нежностью меня
И увещания мои! Быть может,
Я буду там, где голос мой не слышен,
Где не увижу взор безумный твой,
Зажженный прошлой жизнью, – помня все же,
Как мы на берегу прекрасных вод
Стояли вместе; как я, с давних пор
Природы обожатель, не отрекся
От моего служенья, но пылал
Все больше – о! – все пламеннее рвеньем
Любви святейшей. Ты не позабудешь,
Что после многих странствий, многих лет
Разлуки эти чащи и утесы
И весь зеленый край мне стал дороже…
Он сам тому причиной – но и ты!
Пять раз являлась! И опять я слышу
Негромкий рокот вод, бегущих с гор,
Опять я вижу хмурые утесы —
Они в глухом, уединенном месте
Внушают мысли об уединенье
Другом, глубоком, и соединяют
Окрестности с небесной тишиной.
Опять настала мне пора прилечь
Под темной сикоморой и смотреть
На хижины, сады и огороды,
Где в это время года все плоды,
Незрелые, зеленые, сокрыты
Среди густой листвы. Опять я вижу
Живые изгороди, что ползут,
Подобно ответвленьям леса; мызы,
Плющом покрытые; и дым витой,
Что тишина вздымает меж деревьев!
И смутно брезжат мысли о бродягах,
В лесу живущих, или о пещере,
Где у огня сидит отшельник.
Долго
Не видел я ландшафт прекрасный этот,
Но для меня не стал он смутной грезой.
Нет, часто, сидя в комнате унылой
Средь городского шума, был ему я
Обязан в час тоски приятным чувством,
Живящим кровь и в сердце ощутимым,
Что проникало в ум, лишенный скверны,
Спокойным обновлением; и чувства
Отрад забытых, тех, что, может быть,
Немалое влияние окажут
На лучшее, что знает человек, —
На мелкие, невидные деянья
Любви и доброты. О, верю я:
Иным я, высшим даром им обязан,
Блаженным состояньем, при котором
Все тяготы, все тайны и загадки,
Все горькое, томительное бремя
Всего непознаваемого мира
Облегчено покоем безмятежным,
Когда благие чувства нас ведут,
Пока телесное дыханье наше
И даже крови ток у нас в сосудах
Едва ль не прекратится – тело спит,
И мы становимся живой душой,
А взором, успокоенным по воле
Гармонии и радости глубокой,
Проникнем в суть вещей.
И если в этом
Я ошибаюсь, все же – ах! – как часто
Во тьме, средь обликов многообразных
Безрадостного дня, когда все в мире
Возбуждено бесплодной суетой, —
Как часто я к тебе стремился духом,
Скиталец Уай, текущий в диких чащах,
Как часто я душой к тебе стремился.
А ныне, при мерцанье зыбких мыслей,
В неясной дымке полуузнаванья
И с некоей растерянностью грустной
В уме картина оживает вновь:
Я тут стою, не только ощущая
Отраду в настоящем, но отрадно
Мне в миге этом видеть жизнь и пищу
Грядущих лет. Надеяться я смею,
Хоть я не тот, каким я был, когда,
Попав сюда впервые, словно лань,
Скитался по горам, по берегам
Глубоких рек, ручьев уединенных,
Куда вела природа; я скорее
Напоминал того, кто убегает
От страшного, а не того, кто ищет
Отрадное. Тогда была природа
(В дни низменных, мальчишеских утех,
Давно прошедших бешеных восторгов)
Всем для меня. Я описать не в силах
Себя в ту пору. Грохот водопада
Меня преследовал, вершины скал,
Гора, глубокий и угрюмый лес —
Их очертанья и цвета рождали
Во мне влеченье – чувство и любовь,
Которые чуждались высших чар,
Рожденных мыслью, и не обольщались
Ничем незримым. – Та пора прошла,
И больше нет ее утех щемящих,
Ее экстазов буйных. Но об этом
Я не скорблю и не ропщу: взамен
Я знал дары иные, и обильно
Возмещены потери. Я теперь
Не так природу вижу, как порой
Бездумной юности, но часто слышу
Чуть слышную мелодию людскую
Печальную, без грубости, но в силах
Смирять и подчинять. Я ощущаю
Присутствие, палящее восторгом,
Высоких мыслей, благостное чувство
Чего-то, проникающего вглубь,
Чье обиталище – лучи заката,
И океан, и животворный воздух,
И небо синее, и ум людской —
Движение и дух, что направляет
Все мыслящее, все предметы мыслей,
И все пронизывает. Потому-то
Я до сих пор люблю леса, луга
И горы – все, что на земле зеленой
Мы видеть можем; весь могучий мир
Ушей и глаз – все, что они приметят
И полусоздадут; я рад признать
В природе, в языке врожденных чувств
Чистейших мыслей якорь, пристань сердца,
Вожатого, наставника и душу
Природы нравственной моей.
Быть может,
Не знай я этого, мой дух в упадок
Прийти бы мог; со мной ты на брегах
Реки прекрасной – ты, мой лучший друг,
Мой милый, милый друг; в твоих речах
Былой язык души моей я слышу,
Ловлю былые радости в сверканье
Твоих безумных глаз. О да! Пока
Еще в тебе я вижу, чем я был,
Сестра любимая! Творю молитву,
Уверен, что Природа не предаст
Ее любивший дух: ее веленьем
Все годы, что с тобой мы вместе, стали
Чредою радостей; она способна
Так мысль настроить нашу, так исполнить
Прекрасным и покойным, так насытить
Возвышенными думами, что ввек
Злословие, глумленье себялюбцев,
Поспешный суд, и лживые приветы,
И скука повседневной суеты
Не одолеют нас и не смутят
Веселой веры в то, что все кругом
Полно благословений. Пусть же месяц
Тебя в часы прогулки озарит,
Пусть горный ветерок тебя обвеет,
И если ты в грядущие года
Экстазы безрассудные заменишь
Спокойной, трезвой радостью, и ум
Все облики прекрасного вместит,
И в памяти твоей пребудут вечно
Гармония и сладостные звуки —
О, если одиночество и скорбь
Познаешь ты, то как целебно будет
Тебе припомнить с нежностью меня
И увещания мои! Быть может,
Я буду там, где голос мой не слышен,
Где не увижу взор безумный твой,
Зажженный прошлой жизнью, – помня все же,
Как мы на берегу прекрасных вод
Стояли вместе; как я, с давних пор
Природы обожатель, не отрекся
От моего служенья, но пылал
Все больше – о! – все пламеннее рвеньем
Любви святейшей. Ты не позабудешь,
Что после многих странствий, многих лет
Разлуки эти чащи и утесы
И весь зеленый край мне стал дороже…
Он сам тому причиной – но и ты!
Вордсворт прямо сообщает, что поднимается над аббатством. Он вознесся над всей долиной, так как взобрался на близлежащие холмы. Кроме того, поэт возвысился над Тинтернским аббатством и иносказательно: он поднимается над эмпирическим знанием, отдаляется от окружающих его реалий, уносится мыслями в иные сферы. Соответствующим образом оформляется в стихотворении образный ряд.
В первых строках «Тинтернского аббатства» осуществляется переход от внешнего пейзажа к внутреннему. Сначала поэт рассматривает холмы, круто уходящие в небо, и островки старых монастырских фруктовых садов, разбросанные по долине. Однако, признает он, не всё реально существующее может быть заметно глазу. Поэт говорит, что во всех садах ветви деревьев обильно усыпаны фруктами, но издали они не видны: зелень еще не поспевшего урожая сливается с зеленью богатой июльской листвы. Поэт любуется живыми изгородями и следит за динамичным узором их переплетений до тех пор, пока те «становятся уже не изгородями, а путающимися зелеными линиями выходящей из всяких границ зелени» (14-16). Живые изгороди, уходящие вдаль и превращающиеся там в стилизованные линии, являют собой границу внешнего и внутреннего пейзажей.
«Фантазия» и «воображение» - вордсвортовские термины более позднего происхождения: он дал им четкое определение через 8 лет после первого издания «Лирических баллад» - в предисловии к «Собранию поэзии в двух томах». Суть определений сводится к следующему: силой воображения человек мысленно преображает и возвеличивает мир, не искажая сути изображаемого. А фантазируя, он улетает в мир иллюзий. Говоря о вордсвортовской поэзии 1798 г., мы вправе опираться на эти определения, поскольку в те годы поэт много о них размышлял, хотя и не решался предлагать теоретических формулировок, а полагался лишь на язык художественных образов.
Первый внутренний пейзаж, представленный Вордсвортом в «Тинтернском аббатстве», напоминает фантазийную полудрему. Герой разглядывает колечки дыма, поднимающиеся над лесистыми берегами реки Уай, - и придумывает для них красивое сказочное объяснение: якобы в лесу разжигают костры безвестные пустынники и романтичные «бродячие обитатели» - цыгане.
Отдав дань фантазиям, лирический герой переходит к внутренним пейзажам другого толка: к старым воспоминаниям, оставшимся у него после первого посещения Тинтернского аббатства. Находясь в неприветливом городе, он любил воскрешать эти мысленные картины, что производило на него двойной эффект: юноша забывал о будничных неурядицах (30-31) и в то же время ощущал, что становится более чутким к городской действительности, делается милосерднее и прозорливее (36-49). В предисловии ко второму изданию «Лирических баллад» Вордсворт назовет это особое ощущение «припоминанием ярких моментов прошлого в состоянии покоя», которому и должна - по его мысли - посвящаться поэзия.
Герой свыкся с тем, что аббатство являлось ему в мечтаниях, поэтому когда ему довелось посетить Тинтернское аббатство второй раз, он испытал странное чувство: ему показалось, что «его мысленная картина оживает снова» (61). Происходит характерное для поэзии Вордсворта наслоение внутреннего пейзажа на внешний. Картина, «вживую» явившаяся его глазам, оказывается расцвечена дополнительными оттенками: образами из воспоминаний. Поэт мысленно соединяет прошлое с настоящим и с предвидением будущего, пытаясь ощутить полноту времени. Он смотрит на Дороти и узнает в сестре те движения души, которые были присущи его прошлому «я», что наводит его на размышления о становлении человеческого сознания (65-111).
Вордсворт выделяет три этапа личностного развития. В ранней юности человек обнаруживает живость и восторженность своей души: при встрече с любыми объектами земного мира он испытывает «щенячье ликование» («радостные звериные движения», 74). Позже (второй этап развития личности) ликование перерастает в особую любовь: в чувство родства со всеми явлениями природы. Краски, формы, ароматы природы кажутся юному существу воплощением собственных желаний и аппетитов (76-80). Возмужавший лирический герой «Тинтернского аббатства» уже оставил эту стадию развития позади. Он сожалеет, что утратил способность живо откликаться на все происходящее в природе. Но утрата возмещена иным даром (третий этап развития личности): умением любить людей, внимать «тихой, печальной музыке человечности» (91). В сознании поэта происходит переоценка ценностей. Природа, оставаясь его водительницей, оказывается существенно потеснена: всё, что мы видим, говорит Вордсворт, только наполовину - ее творение, а наполовину сотворено созерцающим (103-112).
Поэт пробуждается от мечтаний, но снова его взгляд скользит мимо аббатства. Брат обращает взор к находящейся рядом сестре, по-детски живо любующейся тинтернской панорамой. Он узнаёт в ней прекрасные порывы, которые были знакомы и ему, идентифицирует свое прошлое «я» с Дороти. Он чувствует родство душ с сестрою - и предсказывает, что когда-нибудь она тоже откроет для себя Тинтернское аббатство с иной стороны - как мысленную, одухотворенную картину, окрашенную «более святой любовью» (156), чем любовь к природе. Дороти полюбит эту местность еще за то, что здесь общалась со своим братом. Образы природы будут тем милее ее душе, чем крепче связаны они с памятью о дорогих людях.
Так в «Тинтернском аббатстве» видения поэта-героя тянутся непрерывной чередой: зарисовки с натуры, сказочные мечтания и светлые внутренние пейзажи плавно перерастают из одного в другое. Столь же плавно - утверждает Вордсворт - развивается человек, переходя от старого «я» к новому.
«Тинтернское аббатство» открывается и завершается описанием долины Тинтерн. «Полуночный мороз» начинается и заканчивается описанием зимнего холода, сковывающего движение и навевающего сон. Оба лирических героя временно забывают о действительности, погружаясь в воспоминания о детстве и ранней юности, рассуждают о различных этапах человеческой жизни. Ведущей темой у обоих является беспокойство по поводу мельчающего таланта, потери некой детской гениальности, которая выражается в обостренном восприятии природы и угасает с возрастом.
Делая упор на сходство детского и взрослого «я», Вордсворт получает возможность как бы одновременно обладать двумя разными сознаниями. Стало быть, уже в «Тинтернском аббатстве» Вордсворт начал создавать «слои времени» , в каждом из которых имеется психологический портрет героя, увиденный в новом ракурсе. С тех пор его лирический герой всегда совмещал любование реальным пейзажем с воскрешением пейзажей внутренних, хранящих память о его былых горестях и радостях. Наложение внутренних пейзажей на внешний стало основой каждого лироэпического стихотворения Вордсворта - традиция, которую продолжили младшие английские романтики, а затем и литераторы следующих поколений.
В первых строках «Тинтернского аббатства» осуществляется переход от внешнего пейзажа к внутреннему. Сначала поэт рассматривает холмы, круто уходящие в небо, и островки старых монастырских фруктовых садов, разбросанные по долине. Однако, признает он, не всё реально существующее может быть заметно глазу. Поэт говорит, что во всех садах ветви деревьев обильно усыпаны фруктами, но издали они не видны: зелень еще не поспевшего урожая сливается с зеленью богатой июльской листвы. Поэт любуется живыми изгородями и следит за динамичным узором их переплетений до тех пор, пока те «становятся уже не изгородями, а путающимися зелеными линиями выходящей из всяких границ зелени» (14-16). Живые изгороди, уходящие вдаль и превращающиеся там в стилизованные линии, являют собой границу внешнего и внутреннего пейзажей.
«Фантазия» и «воображение» - вордсвортовские термины более позднего происхождения: он дал им четкое определение через 8 лет после первого издания «Лирических баллад» - в предисловии к «Собранию поэзии в двух томах». Суть определений сводится к следующему: силой воображения человек мысленно преображает и возвеличивает мир, не искажая сути изображаемого. А фантазируя, он улетает в мир иллюзий. Говоря о вордсвортовской поэзии 1798 г., мы вправе опираться на эти определения, поскольку в те годы поэт много о них размышлял, хотя и не решался предлагать теоретических формулировок, а полагался лишь на язык художественных образов.
Первый внутренний пейзаж, представленный Вордсвортом в «Тинтернском аббатстве», напоминает фантазийную полудрему. Герой разглядывает колечки дыма, поднимающиеся над лесистыми берегами реки Уай, - и придумывает для них красивое сказочное объяснение: якобы в лесу разжигают костры безвестные пустынники и романтичные «бродячие обитатели» - цыгане.
Отдав дань фантазиям, лирический герой переходит к внутренним пейзажам другого толка: к старым воспоминаниям, оставшимся у него после первого посещения Тинтернского аббатства. Находясь в неприветливом городе, он любил воскрешать эти мысленные картины, что производило на него двойной эффект: юноша забывал о будничных неурядицах (30-31) и в то же время ощущал, что становится более чутким к городской действительности, делается милосерднее и прозорливее (36-49). В предисловии ко второму изданию «Лирических баллад» Вордсворт назовет это особое ощущение «припоминанием ярких моментов прошлого в состоянии покоя», которому и должна - по его мысли - посвящаться поэзия.
Герой свыкся с тем, что аббатство являлось ему в мечтаниях, поэтому когда ему довелось посетить Тинтернское аббатство второй раз, он испытал странное чувство: ему показалось, что «его мысленная картина оживает снова» (61). Происходит характерное для поэзии Вордсворта наслоение внутреннего пейзажа на внешний. Картина, «вживую» явившаяся его глазам, оказывается расцвечена дополнительными оттенками: образами из воспоминаний. Поэт мысленно соединяет прошлое с настоящим и с предвидением будущего, пытаясь ощутить полноту времени. Он смотрит на Дороти и узнает в сестре те движения души, которые были присущи его прошлому «я», что наводит его на размышления о становлении человеческого сознания (65-111).
Вордсворт выделяет три этапа личностного развития. В ранней юности человек обнаруживает живость и восторженность своей души: при встрече с любыми объектами земного мира он испытывает «щенячье ликование» («радостные звериные движения», 74). Позже (второй этап развития личности) ликование перерастает в особую любовь: в чувство родства со всеми явлениями природы. Краски, формы, ароматы природы кажутся юному существу воплощением собственных желаний и аппетитов (76-80). Возмужавший лирический герой «Тинтернского аббатства» уже оставил эту стадию развития позади. Он сожалеет, что утратил способность живо откликаться на все происходящее в природе. Но утрата возмещена иным даром (третий этап развития личности): умением любить людей, внимать «тихой, печальной музыке человечности» (91). В сознании поэта происходит переоценка ценностей. Природа, оставаясь его водительницей, оказывается существенно потеснена: всё, что мы видим, говорит Вордсворт, только наполовину - ее творение, а наполовину сотворено созерцающим (103-112).
Поэт пробуждается от мечтаний, но снова его взгляд скользит мимо аббатства. Брат обращает взор к находящейся рядом сестре, по-детски живо любующейся тинтернской панорамой. Он узнаёт в ней прекрасные порывы, которые были знакомы и ему, идентифицирует свое прошлое «я» с Дороти. Он чувствует родство душ с сестрою - и предсказывает, что когда-нибудь она тоже откроет для себя Тинтернское аббатство с иной стороны - как мысленную, одухотворенную картину, окрашенную «более святой любовью» (156), чем любовь к природе. Дороти полюбит эту местность еще за то, что здесь общалась со своим братом. Образы природы будут тем милее ее душе, чем крепче связаны они с памятью о дорогих людях.
Так в «Тинтернском аббатстве» видения поэта-героя тянутся непрерывной чередой: зарисовки с натуры, сказочные мечтания и светлые внутренние пейзажи плавно перерастают из одного в другое. Столь же плавно - утверждает Вордсворт - развивается человек, переходя от старого «я» к новому.
«Тинтернское аббатство» открывается и завершается описанием долины Тинтерн. «Полуночный мороз» начинается и заканчивается описанием зимнего холода, сковывающего движение и навевающего сон. Оба лирических героя временно забывают о действительности, погружаясь в воспоминания о детстве и ранней юности, рассуждают о различных этапах человеческой жизни. Ведущей темой у обоих является беспокойство по поводу мельчающего таланта, потери некой детской гениальности, которая выражается в обостренном восприятии природы и угасает с возрастом.
Делая упор на сходство детского и взрослого «я», Вордсворт получает возможность как бы одновременно обладать двумя разными сознаниями. Стало быть, уже в «Тинтернском аббатстве» Вордсворт начал создавать «слои времени» , в каждом из которых имеется психологический портрет героя, увиденный в новом ракурсе. С тех пор его лирический герой всегда совмещал любование реальным пейзажем с воскрешением пейзажей внутренних, хранящих память о его былых горестях и радостях. Наложение внутренних пейзажей на внешний стало основой каждого лироэпического стихотворения Вордсворта - традиция, которую продолжили младшие английские романтики, а затем и литераторы следующих поколений.
"Нас семеро"
Ребенок простодушный, чей
Так легок каждый вдох,
В ком жизнь струится, как ручей,
Что знать о смерти мог?
Я встретил девочку, идя
Дорогой полевой.
"Мне восемь", - молвило дитя
С кудрявой головой.
Одежда жалкая на ней
И диковатый вид.
Но милый взгляд ее очей
Был кроток и открыт.
"А сколько братьев и сестер
В твоей семье, мой свет?"
Бросая удивленный взор,
"Нас семь", - дала ответ.
"И где ж они?" - "Ушли от нас
В далекий Конвей двое,
И двое на море сейчас.
А всех нас семь со мною.
За нашей церковью в тени
Лежат сестренка с братом.
И с мамой мы теперь одни
В сторожке с ними рядом".
"Дитя мое, как может вас
Быть семеро с тобою,
Коль двое на море сейчас
И на чужбине двое?"
"Нас семь, - ответ ее был прост, -
Сестра моя и брат,
Едва войдешь ты на погост -
Под деревом лежат".
"Ты здесь резвишься, ангел мой,
А им вовек не встать.
Коль двое спят в земле сырой,
То вас осталось пять".
"В цветах живых могилы их.
Шагов двенадцать к ним
От двери в дом, где мы живем
И их покой храним.
Я часто там чулки вяжу,
Себе одежку шью.
И на земле близ них сижу,
И песни им пою.
А ясной летнею порой,
По светлым вечерам
Беру я мисочку с собой
И ужинаю там.
Сначала Джейн ушла от нас.
Стонала день и ночь.
Господь ее от боли спас,
Как стало ей невмочь.
Мы там играли - я и Джон,
Где камень гробовой
Над нею вырос, окружен
Весеннею травой.
Когда ж засыпал снег пути
И заблестел каток,
Джон тоже должен был уйти:
С сестрой он рядом лег".
"Но если брат с сестрой в раю, -
Вскричал я, - сколько ж вас?"
Она в ответ на речь мою:
"Нас семеро сейчас!"
"Их нет, увы! Они мертвы!
На небесах их дом!"
Она ж по-прежнему: "Нас семь!" -
Меня не слушая совсем,
Стояла на своем.
Так легок каждый вдох,
В ком жизнь струится, как ручей,
Что знать о смерти мог?
Я встретил девочку, идя
Дорогой полевой.
"Мне восемь", - молвило дитя
С кудрявой головой.
Одежда жалкая на ней
И диковатый вид.
Но милый взгляд ее очей
Был кроток и открыт.
"А сколько братьев и сестер
В твоей семье, мой свет?"
Бросая удивленный взор,
"Нас семь", - дала ответ.
"И где ж они?" - "Ушли от нас
В далекий Конвей двое,
И двое на море сейчас.
А всех нас семь со мною.
За нашей церковью в тени
Лежат сестренка с братом.
И с мамой мы теперь одни
В сторожке с ними рядом".
"Дитя мое, как может вас
Быть семеро с тобою,
Коль двое на море сейчас
И на чужбине двое?"
"Нас семь, - ответ ее был прост, -
Сестра моя и брат,
Едва войдешь ты на погост -
Под деревом лежат".
"Ты здесь резвишься, ангел мой,
А им вовек не встать.
Коль двое спят в земле сырой,
То вас осталось пять".
"В цветах живых могилы их.
Шагов двенадцать к ним
От двери в дом, где мы живем
И их покой храним.
Я часто там чулки вяжу,
Себе одежку шью.
И на земле близ них сижу,
И песни им пою.
А ясной летнею порой,
По светлым вечерам
Беру я мисочку с собой
И ужинаю там.
Сначала Джейн ушла от нас.
Стонала день и ночь.
Господь ее от боли спас,
Как стало ей невмочь.
Мы там играли - я и Джон,
Где камень гробовой
Над нею вырос, окружен
Весеннею травой.
Когда ж засыпал снег пути
И заблестел каток,
Джон тоже должен был уйти:
С сестрой он рядом лег".
"Но если брат с сестрой в раю, -
Вскричал я, - сколько ж вас?"
Она в ответ на речь мою:
"Нас семеро сейчас!"
"Их нет, увы! Они мертвы!
На небесах их дом!"
Она ж по-прежнему: "Нас семь!" -
Меня не слушая совсем,
Стояла на своем.
В стихотворении Вордсворта «Нас семеро» говориться о том, как на кладбище лирический герой встречает девочку, которая сидит на могиле. Он спрашивает, сколько детей у ее матери. Она говорит «Нас семеро» у матери. Далее с ее рассказа становится понятно, что некоторые из ее братьев и сестер умерли, они на кладбище, в этой могиле, где она сидит. Но идея этого стихотворения в том, что девочка права. Неважно, что умерли ее браться и сестры, но пока она их помнит, любит, приходит на могилу, они живы. Живы те, о ком помнят, кого любят.
Вера в бессмертие человеческой души, искренне и наивно защищаемая маленькой героиней стихотворения "Нас семеро", была близка детскому мировосприятию самого поэта. Прототипом героини послужила маленькая девочка, встретившаяся Вордсворту в местечке Гудрич Касл в долине Уай близ Тинтернского аббатства в 1793 году. Светлая душа ребенка не сознает пределы земной жизни, верно хранит любовь к сестре Джейн и брату Джону, похороненным у церкви. Девочка беседует с ними, поет песни, угощает едой. Однако неведение ребенка оказывается высшей мудростью, осознанием вечной жизни неразлучных в пространстве вечной жизни любящих сердец.
Вера в бессмертие человеческой души, искренне и наивно защищаемая маленькой героиней стихотворения "Нас семеро", была близка детскому мировосприятию самого поэта. Прототипом героини послужила маленькая девочка, встретившаяся Вордсворту в местечке Гудрич Касл в долине Уай близ Тинтернского аббатства в 1793 году. Светлая душа ребенка не сознает пределы земной жизни, верно хранит любовь к сестре Джейн и брату Джону, похороненным у церкви. Девочка беседует с ними, поет песни, угощает едой. Однако неведение ребенка оказывается высшей мудростью, осознанием вечной жизни неразлучных в пространстве вечной жизни любящих сердец.
"Нарциссы"
Печальным реял я туманом
Среди долин и гор седых,
Как вдруг очнулся перед станом,
Толпой нарциссов золотых:
Шатал и гнул их ветерок,
И каждый трепетал цветок.
Бесчисленны в своем мерцанье,
Как звезды в млечности ночной,
Они вились по очертанью
Излучины береговой -
Сто сотен охватил на глаз
Пустившихся в веселый пляс.
Плясала и волна; резвее,
Однако, был цветов задор,
Тоску поэта вмиг развеял
Их оживленный разговор,
Но сердцу было невдогад,
Какой мне в них открылся клад.
Ведь ныне в сладкий час покоя
Иль думы одинокий час
Вдруг озарят они весною,
Пред оком мысленным явясь,
И сердцем я плясать готов,
Ликуя радостью цветов.
Среди долин и гор седых,
Как вдруг очнулся перед станом,
Толпой нарциссов золотых:
Шатал и гнул их ветерок,
И каждый трепетал цветок.
Бесчисленны в своем мерцанье,
Как звезды в млечности ночной,
Они вились по очертанью
Излучины береговой -
Сто сотен охватил на глаз
Пустившихся в веселый пляс.
Плясала и волна; резвее,
Однако, был цветов задор,
Тоску поэта вмиг развеял
Их оживленный разговор,
Но сердцу было невдогад,
Какой мне в них открылся клад.
Ведь ныне в сладкий час покоя
Иль думы одинокий час
Вдруг озарят они весною,
Пред оком мысленным явясь,
И сердцем я плясать готов,
Ликуя радостью цветов.
"Нарциссы" - пожалуй, одно из самых известных произведений поэта. Стихи были написаны в апреле 1804 года, то есть более двухсот лет назад - однако нисколько не устарели, и все так же прекрасно передают весеннее настроение середины апреля, и вместе с ним - особое ощущение возвышенной радости. История создания стихов такова: однажды поэт и его сестра Дороти прогуливались мимо озера, и вдруг увидели чудесную картину: множество прекрасных нарциссов росли на берегу. Пройдя дальше, они обнаружили еще больше нарциссов. Только через два года после прогулки Вордсворт облачит увиденное в поэтическую форму.
"Не хмурься, критик"
Не хмурься, критик, не отринь сонета!
Он ключ, которым сердце открывал
Свое Шекспир; Петрарка врачевал
Печаль, когда звенела лютня эта;
У Тассо часто флейтой он взывал;
Им скорбь Камоэнса была согрета;
Он в кипарисовый венок поэта,
Которым Дант чело короновал,
Вплетен, как мирт; он, как светляк бессонный,
Вел Спенсера на трудный перевал,
Из царства фей, дорогой потаенной;
Трубой в руках у Мильтона он стал,
Чье медногласье душу возвышало;
Увы, труба звучала слишком мало!
Он ключ, которым сердце открывал
Свое Шекспир; Петрарка врачевал
Печаль, когда звенела лютня эта;
У Тассо часто флейтой он взывал;
Им скорбь Камоэнса была согрета;
Он в кипарисовый венок поэта,
Которым Дант чело короновал,
Вплетен, как мирт; он, как светляк бессонный,
Вел Спенсера на трудный перевал,
Из царства фей, дорогой потаенной;
Трубой в руках у Мильтона он стал,
Чье медногласье душу возвышало;
Увы, труба звучала слишком мало!
Вордсворт осознает себя продолжателем европейской сонетной традиции. В своем произведении он сохраняет композиционный рисунок, логику триадного развития темы, однако привносит и новые качества за счет предельно ясного, лишенного метафорических украшений языка, тематического разнообразия, индивидуальной лирической интонации
Список использованной литературы:
1. http://royallib.com/read/vordsvort_uilyam/izbranna...
2. http://cyberleninka.ru/article/n/tinternskoe-abbatstvo-u-vordsvorta-kontekst-i-kompozitsiya-1
3. http://cyberleninka.ru/article/n/tinternskoe-abbat...
2. http://cyberleninka.ru/article/n/tinternskoe-abbatstvo-u-vordsvorta-kontekst-i-kompozitsiya-1
3. http://cyberleninka.ru/article/n/tinternskoe-abbat...
